Моя земля и Колыбель для кошки
28.07.10 10:11 | Добавить в избранноеКогда я думаю о детстве, мне представляется сплошное неомраченное счастье, хотя все было, конечно, не так, по-другому. Но память милосердно стирает ненужное, подменяет картинки. Сквозь лица постаревших дворовых друзей просвечивают их прежние черты и иногда это единственное, что меня с ними примиряет. И еще в моих воспоминаниях там, в детстве - всегда лето.
А Мурад примет ислам, уйдет на Чеченскую, будет воевать там, а вернувшись живым, неубитым, женится на вдове погибшего друга, и заживет тихо, воспитывая двух ее сыновей и склоняясь в поклонах на молитвенном коврике по пять раз в день.
Знаете, а я ведь уже не смогу
в ножички, да и вы, наверное, тоже. Нам, кажется, уже не нужна своя земля. Я бы
лучше сплела из веревочки колыбель для кошки – помните, как это, да? - положила
нас всех туда, укачала, утешила, нашла тех, кто потерялся, подула бы всем на
расшибленные коленки. С вами я согласна сейчас даже на «цветочный флирт».
..
Только боюсь, что кто-нибудь, протянув мне карточку, скажет – «гортензия». И я
возьму ее и прочитаю «Не хочу Васъ больше знать!»




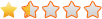
комментарии:
добавить комментарий
Пожалуйста, войдите чтобы добавить комментарий.
добавить комментарий
Пожалуйста, войдите чтобы добавить комментарий.