Про Розу Мятую
01.05.10 16:36 | Добавить в избранное
Ну, кто посмеет упрекнуть старинных друзей, которые давно не виделись, к тому же, что засиделись за полночь? И у кого поднимется рука, то есть повернется язык попенять им за то, что не только о политике говорили? Да мы и сами не поняли, как на эту странную тему перешли. Как угораздило? Взрослые же все люди и не так, чтобы очень сентиментальные. Циничные, скорее.
Хотя, все понятно. Фильм как раз шел по телеку. И мы его вполглаза смотрели. Мелодрама «Сладкий ноябрь».
Если кто не помнит сюжет – не страшно. Напомню. Там дело было такое – один американский мэн встретил странную девушку Шерлиз Терон и думал про нее, что она б…., а она оказалась не б…., а просто хорошая очень, хотя и вела себя, по нашим дагестанским понятиям, как натуральная б…. . Она смертельно оказалась больная (ну, мелодрама же!) и хотела пока не уйдет осчастливить как можно больше людей. То есть мужчин. Ну и осчастливливала, как умела, отводя каждому по месяцу. А Киану Ривз был у нее Ноябрем.
И нам бы тихо смотреть на экран, выпивать и всхлипывать, особенно когда из аптечки в ванной комнате на Ривза сыплются одинаковые баночки с сильнодействующими лекарствами, и он прямо сразу прозревает со зрителями вместе. А мы в дебри полезли, рассуждать принялись. Ведь непонятно! Судя по фильму – эта Шарлиз действительно чуть ли не святая была. Из занюханного рекламного агента сделала человека, способного чувствовать, жизнью наслаждаться. И не из него одного, кстати. И они ее все за это нежно любили, ее мужчины, были благодарны, и навещали, даже когда отведенный им месяц счастья заканчивался. Но это в фильме все так гладко. А помести такую в нашу с вами реальность! Да еще пусть не умирает, а наоборот, красивая будет и здоровая. Ну?
И тут мы закивали друг другу. Потому что детство у нас было общее, дворовое, и юность общая и все про наш город мы знали прекрасно. Лучше, чем хотелось бы… И Розку мы прекрасно помнили. И прозвище ее. Надо же, как, оказывается, поэтично это звучало – Мятая Роза…
– Слушай, а кто ее первый Мятой назвал?
– Да не помню. В детстве еще в самом. У нее все время шмотки какие-то жеванные были.
– А, ну да. Там же мамаша еще та…
Мамаша – да! Мамаша, там была, как сейчас сказали бы – «жесть!». Мужики постоянно какие-то стремные, сама распатланная и в халате, на котором вечно пуговиц не хватало и он расходился на животе. А живот был тугой, белый, с выпуклым пупком и очень какой-то непристойный. Я, например, старалась на него не смотреть, когда теть Ася подступала ко мне и кричала (она всегда кричала) «Ты Розку мою не видела? Послала за хлебом, а она, шалава, опять где-то шаболдается!». Замурзанной тонконогой «шалаве» было тогда лет 11. Да и нам всем примерно по столько же.
Одиннадцать – это много, это человек совсем взрослый. Наши мальчишки уже отказывались есть вафли из-за «неприличного» названия, дразнили друг друга непонятными шуточками про волосы на ладонях, а двое в кровь подрались за гаражами. Обычное дело – обсуждали, как дети образуются. Пришли к полному согласию. А потом один сказал другому, что остальные взрослые – они-то, конечно, но «за его родителей пускай не врет», они ТАКОГО не делают никогда! Второму стало обидно, вот они и подрались. Но потом помирились, конечно, и побежали вместе к бане на Гоголя – за голыми тетками в окна подглядывать. А мы, девчонки уже начали надевать лифчики и подкладывали в них кусочки ваты, чтобы соски не выделялись, на велосипед влезали, только отойдя в сторонку, и на несколько дней каждого месяца получали освобождение от физкультуры. Обычный подростковый ад, одним словом.
– Да что ты знаешь про ад? Я сейчас взрослый мужик, а мне до сих пор как-то не по себе, когда вспоминаю. Эти утренние простыни со стыдными пятнами и бежишь их отстирывать, потому что вдруг кто увидит? Мама там или сестренка… А они, собаки, не отстирываются никак, и тогда просто пачкаешь их, трешь об пол. Или на уроке тебя вызывают, а ты встать не можешь, потому что брюки прошлогодние, тесные и сейчас все узнают, ЧТО с тобой творится? А знаешь, как я за Д’Артаньяна переживал? Ну, когда он эту Констанцию свою уломал, наконец, и на свиху к ней пришел, а там все перевернуто и ее похитили? Я чуть не плакал, когда читал!
– Ладно, чего ты, не заводись. Не помнишь, с Розкой это все когда началось?
– Лет в 14, вроде…
Да, где-то так. Она к нам уже и не подходила, все равно гнали. Не любили мы ее никогда. А около нее вдруг стали виться большие парни. Совсем взросляк. Двадцатилетние. А моя мама как-то сказала о Розке «вся в мать», а потом «пошла по рукам» и еще «дом терпимости». Мне такой странной фраза показалась. Вроде всегда говорили «будьте терпимыми» и это было хорошо, похвально, а сейчас «терпимость» прозвучала стыдно, позорно даже. Как обзывательство.
Про Розку во дворе говорили много. Девчонки шушукались «она уже не…» Мальчишки выражались понятнее и проще – «дает», свистели вслед и подсылали младших пацанов, чтоб задрали ей подол платья. Она не злилась, не ругалась, за пацанами не гналась – только кудахтала как-то, платье поправляла, разглаживала руками и потом шла дальше. И вообще она стала рыхлая и неприятная, какая-то сырая, что ли, как большая рыба в глупом своем платье… И челка у нее все время была влажная и прилипала ко лбу, а на лбу яркие, мелкие прыщики.
– Это ты так видела. Прыщики, то, сё. А я по-другому. Она шла по двору и походка была уже женская, мягкая какая-то, а вокруг нее такое как бы облако мутно-розовое, и я знал, что Русик, ну помнишь, здоровый такой из соседнего двора, вот он с ней был, и Серега тоже, и злился на нее ужасно, что не могу так просто подойти и… Мне ее убить хотелось! Свалить на землю, придавить живот коленом и крутить руки, грудь ей, чтоб знала! А потом…
И он рассказал. И я так хорошо себе это все представила, так отчетливо. Как в темном дворе он подстерег ее, и стал наступать, хватая за плечи, сопя, ничего не говоря, и теснил, не зная, что делать с собой, что делать с ней, онемев от злости и страха, а она все пятилась, пятилась, а потом вдруг взяла его за руку и повела – в подъезд, по ступенькам, на самый последний пятый этаж, на крышу. И там все гладила его по спине и говорила «Ну вот, ну вот». Она вообще-то всегда мало говорила. А он, мой друг детства, когда они уже встали, увидел, что лежала она, оказывается, на каких-то битых кирпичах. И ей, наверное, было неудобно, спине больно. Тут для пущих красот надо бы написать, что с тех пор он стал Розкиным защитником. Но этого не было, потому что все всё о ней знали и по пацановским дворовым понятиям за такую заступаться не полагалось. И он тут ничего не мог уже поделать, да и не очень-то хотел. Он был умница, почти отличник, девочки за ним – косяками, а она? Она была Никто в этом мире. Самая последняя. Так что и пацанов мелких продолжал подсылать, и платье ей опять задирали. А однажды, когда вдруг решили смеху для бросать ей в спину камешки – он кинул самый большой. И попал, конечно. Он меткий был, мой друг. А вечером они опять пошли на эту крышу. И опять она ничего не говорила, только улыбалась своей расслабленной мокрой улыбочкой.
– Я ж второй раз женат, ну и помимо жен… – чё ты кривишься, обычное мущинское дело – но у меня, веришь, больше ни разу такой ДОБРОЙ не было. Все другие что-то от меня хотели, ждали чего-то: покровительства, удовольствия, ребенка, семьи, статуса, денег, опыта и только она одна, эта Розка ничего от меня не хотела. Ничего не ждала. Мне было страшно нужно тогда, а ей меня было жалко. Я думаю, она с тем же лицом, так же тихо руку бы мне перевязывала, если б я порезался.
Знаешь, вот у нас так много памятников по городу понастроили. Даже русской учительнице. Но не у всех были первые русские учительницы, у меня, например, не было. У меня, например, была Асият… как ее… Вот, блин, забыл! Неважно. Так я бы другой памятник поставил. Совсем простой, без пьедестала всякого. Вот такой вот Розке Мятой, которая была, наверное, у каждого городского пацана. Поставил бы тупо в каком-нибудь закутке, в парке… Чтобы мужик какой посмотрел и сразу вспомнил все крыши, все гаражи, сараи, подвалы, пляжи, где у нас это в первый раз происходило… Ты б написала об этом в свое газете, а? Мол, есть в мужском народе такое предложение.
И я подумала «Не, это вряд ли получится, чтобы памятник! И в прессе какой хай вселенский поднимется! Станут орать: «Как можно! Разврат! Аморально! К чему призываете?» И где-то будут правы, ведь кому захочется, чтобы его любимая дочушка, племяшка или внученька…, короче понятно все. Опять-таки как его назвать, такой памятник? Да и с эстетической точки зрения если посмотреть – тоже не алё. Розка, все-таки даже в лучшие свои времена была далеко не Шарлиз Терон, какой бы желанной она моему другу не казалась, а сейчас, наверное, так и вовсе. Так что с памятником точно не выгорит. А вот написать – так почему бы и нет? Почему бы и не написать, если в народе есть такое предложение?
Хотя, все понятно. Фильм как раз шел по телеку. И мы его вполглаза смотрели. Мелодрама «Сладкий ноябрь».
Если кто не помнит сюжет – не страшно. Напомню. Там дело было такое – один американский мэн встретил странную девушку Шерлиз Терон и думал про нее, что она б…., а она оказалась не б…., а просто хорошая очень, хотя и вела себя, по нашим дагестанским понятиям, как натуральная б…. . Она смертельно оказалась больная (ну, мелодрама же!) и хотела пока не уйдет осчастливить как можно больше людей. То есть мужчин. Ну и осчастливливала, как умела, отводя каждому по месяцу. А Киану Ривз был у нее Ноябрем.
И нам бы тихо смотреть на экран, выпивать и всхлипывать, особенно когда из аптечки в ванной комнате на Ривза сыплются одинаковые баночки с сильнодействующими лекарствами, и он прямо сразу прозревает со зрителями вместе. А мы в дебри полезли, рассуждать принялись. Ведь непонятно! Судя по фильму – эта Шарлиз действительно чуть ли не святая была. Из занюханного рекламного агента сделала человека, способного чувствовать, жизнью наслаждаться. И не из него одного, кстати. И они ее все за это нежно любили, ее мужчины, были благодарны, и навещали, даже когда отведенный им месяц счастья заканчивался. Но это в фильме все так гладко. А помести такую в нашу с вами реальность! Да еще пусть не умирает, а наоборот, красивая будет и здоровая. Ну?
И тут мы закивали друг другу. Потому что детство у нас было общее, дворовое, и юность общая и все про наш город мы знали прекрасно. Лучше, чем хотелось бы… И Розку мы прекрасно помнили. И прозвище ее. Надо же, как, оказывается, поэтично это звучало – Мятая Роза…
– Слушай, а кто ее первый Мятой назвал?
– Да не помню. В детстве еще в самом. У нее все время шмотки какие-то жеванные были.
– А, ну да. Там же мамаша еще та…
Мамаша – да! Мамаша, там была, как сейчас сказали бы – «жесть!». Мужики постоянно какие-то стремные, сама распатланная и в халате, на котором вечно пуговиц не хватало и он расходился на животе. А живот был тугой, белый, с выпуклым пупком и очень какой-то непристойный. Я, например, старалась на него не смотреть, когда теть Ася подступала ко мне и кричала (она всегда кричала) «Ты Розку мою не видела? Послала за хлебом, а она, шалава, опять где-то шаболдается!». Замурзанной тонконогой «шалаве» было тогда лет 11. Да и нам всем примерно по столько же.
Одиннадцать – это много, это человек совсем взрослый. Наши мальчишки уже отказывались есть вафли из-за «неприличного» названия, дразнили друг друга непонятными шуточками про волосы на ладонях, а двое в кровь подрались за гаражами. Обычное дело – обсуждали, как дети образуются. Пришли к полному согласию. А потом один сказал другому, что остальные взрослые – они-то, конечно, но «за его родителей пускай не врет», они ТАКОГО не делают никогда! Второму стало обидно, вот они и подрались. Но потом помирились, конечно, и побежали вместе к бане на Гоголя – за голыми тетками в окна подглядывать. А мы, девчонки уже начали надевать лифчики и подкладывали в них кусочки ваты, чтобы соски не выделялись, на велосипед влезали, только отойдя в сторонку, и на несколько дней каждого месяца получали освобождение от физкультуры. Обычный подростковый ад, одним словом.
– Да что ты знаешь про ад? Я сейчас взрослый мужик, а мне до сих пор как-то не по себе, когда вспоминаю. Эти утренние простыни со стыдными пятнами и бежишь их отстирывать, потому что вдруг кто увидит? Мама там или сестренка… А они, собаки, не отстирываются никак, и тогда просто пачкаешь их, трешь об пол. Или на уроке тебя вызывают, а ты встать не можешь, потому что брюки прошлогодние, тесные и сейчас все узнают, ЧТО с тобой творится? А знаешь, как я за Д’Артаньяна переживал? Ну, когда он эту Констанцию свою уломал, наконец, и на свиху к ней пришел, а там все перевернуто и ее похитили? Я чуть не плакал, когда читал!
– Ладно, чего ты, не заводись. Не помнишь, с Розкой это все когда началось?
– Лет в 14, вроде…
Да, где-то так. Она к нам уже и не подходила, все равно гнали. Не любили мы ее никогда. А около нее вдруг стали виться большие парни. Совсем взросляк. Двадцатилетние. А моя мама как-то сказала о Розке «вся в мать», а потом «пошла по рукам» и еще «дом терпимости». Мне такой странной фраза показалась. Вроде всегда говорили «будьте терпимыми» и это было хорошо, похвально, а сейчас «терпимость» прозвучала стыдно, позорно даже. Как обзывательство.
Про Розку во дворе говорили много. Девчонки шушукались «она уже не…» Мальчишки выражались понятнее и проще – «дает», свистели вслед и подсылали младших пацанов, чтоб задрали ей подол платья. Она не злилась, не ругалась, за пацанами не гналась – только кудахтала как-то, платье поправляла, разглаживала руками и потом шла дальше. И вообще она стала рыхлая и неприятная, какая-то сырая, что ли, как большая рыба в глупом своем платье… И челка у нее все время была влажная и прилипала ко лбу, а на лбу яркие, мелкие прыщики.
– Это ты так видела. Прыщики, то, сё. А я по-другому. Она шла по двору и походка была уже женская, мягкая какая-то, а вокруг нее такое как бы облако мутно-розовое, и я знал, что Русик, ну помнишь, здоровый такой из соседнего двора, вот он с ней был, и Серега тоже, и злился на нее ужасно, что не могу так просто подойти и… Мне ее убить хотелось! Свалить на землю, придавить живот коленом и крутить руки, грудь ей, чтоб знала! А потом…
И он рассказал. И я так хорошо себе это все представила, так отчетливо. Как в темном дворе он подстерег ее, и стал наступать, хватая за плечи, сопя, ничего не говоря, и теснил, не зная, что делать с собой, что делать с ней, онемев от злости и страха, а она все пятилась, пятилась, а потом вдруг взяла его за руку и повела – в подъезд, по ступенькам, на самый последний пятый этаж, на крышу. И там все гладила его по спине и говорила «Ну вот, ну вот». Она вообще-то всегда мало говорила. А он, мой друг детства, когда они уже встали, увидел, что лежала она, оказывается, на каких-то битых кирпичах. И ей, наверное, было неудобно, спине больно. Тут для пущих красот надо бы написать, что с тех пор он стал Розкиным защитником. Но этого не было, потому что все всё о ней знали и по пацановским дворовым понятиям за такую заступаться не полагалось. И он тут ничего не мог уже поделать, да и не очень-то хотел. Он был умница, почти отличник, девочки за ним – косяками, а она? Она была Никто в этом мире. Самая последняя. Так что и пацанов мелких продолжал подсылать, и платье ей опять задирали. А однажды, когда вдруг решили смеху для бросать ей в спину камешки – он кинул самый большой. И попал, конечно. Он меткий был, мой друг. А вечером они опять пошли на эту крышу. И опять она ничего не говорила, только улыбалась своей расслабленной мокрой улыбочкой.
– Я ж второй раз женат, ну и помимо жен… – чё ты кривишься, обычное мущинское дело – но у меня, веришь, больше ни разу такой ДОБРОЙ не было. Все другие что-то от меня хотели, ждали чего-то: покровительства, удовольствия, ребенка, семьи, статуса, денег, опыта и только она одна, эта Розка ничего от меня не хотела. Ничего не ждала. Мне было страшно нужно тогда, а ей меня было жалко. Я думаю, она с тем же лицом, так же тихо руку бы мне перевязывала, если б я порезался.
Знаешь, вот у нас так много памятников по городу понастроили. Даже русской учительнице. Но не у всех были первые русские учительницы, у меня, например, не было. У меня, например, была Асият… как ее… Вот, блин, забыл! Неважно. Так я бы другой памятник поставил. Совсем простой, без пьедестала всякого. Вот такой вот Розке Мятой, которая была, наверное, у каждого городского пацана. Поставил бы тупо в каком-нибудь закутке, в парке… Чтобы мужик какой посмотрел и сразу вспомнил все крыши, все гаражи, сараи, подвалы, пляжи, где у нас это в первый раз происходило… Ты б написала об этом в свое газете, а? Мол, есть в мужском народе такое предложение.
И я подумала «Не, это вряд ли получится, чтобы памятник! И в прессе какой хай вселенский поднимется! Станут орать: «Как можно! Разврат! Аморально! К чему призываете?» И где-то будут правы, ведь кому захочется, чтобы его любимая дочушка, племяшка или внученька…, короче понятно все. Опять-таки как его назвать, такой памятник? Да и с эстетической точки зрения если посмотреть – тоже не алё. Розка, все-таки даже в лучшие свои времена была далеко не Шарлиз Терон, какой бы желанной она моему другу не казалась, а сейчас, наверное, так и вовсе. Так что с памятником точно не выгорит. А вот написать – так почему бы и нет? Почему бы и не написать, если в народе есть такое предложение?




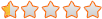
комментарии:
добавить комментарий
Пожалуйста, войдите чтобы добавить комментарий.