Жизнь Марины Львовны, холст, масло
19.11.15 10:23 | Добавить в избранное
Марина Львовна - моя дальняя родственница и тот самый редкий случай, когда я не только не бегаю от общения, но ищу его сама. Она - троюродная сестра моей бабушки, самая младшая из того поколения, последняя оставшаяся в живых. Все уже ушли, а она осталась, как будто засомневалась в естественном порядке вещей, как будто щёлкнула смерть по лбу и сказала: фиг тебе, подождёшь.
Моя родня "Львовну" не любит, считает зазнайкой, странной особой. А я её обожаю, подозреваю, что за многими мудрыми поступками моей собственной матери стоит если не деликатный совет, то личный пример тётки. Марина с юности ненавидела бабскую жестокость и бессмысленные разборки, и место в её сердце сурово ограничено - некогда она признавала только бабушку, сейчас открывает дверь только матери, мне и социальному работнику. Ненужных без лишних разборок выдворила. Признаний в нежных чувствах от неё не дождёшься, не так воспитана, их поколение не приучено щебетать "я тебя люблю, я тебя люблю" (и это страшно, плохо, но разве можно на них обижаться за такую эмоциональную немоту?). Как-то я её обняла первой, Марина Львовна сильно растерялась, смутилась. Но в глубине души, я уверена, обрадовалась. Потому что с тех пор начала рассказывать мне о себе нечто большее, чем "работала, жила, как все".
В юности Львовна была "середнячком" - не красавица, не уродина, крепкая такая заводская девушка. О том, что у неё талант к живописи, знала с тех пор, как себя помнит, однако последовать мечте не дала суровая реальность. Марина Львовна стала чертёжницей, а писать картины только для себя стала несколько лет спустя после выхода на пенсию.
Ещё ребёнком я рассматривала десятки её эскизов и картин на стенах, и удивлялась, насколько они все разные. Тогда я ещё не знала, что такое стили, к какой эпохе они относятся. Когда же повзрослела и начала распознавать знакомые очертания в работах Львовны, то спросила её - а почему она не ищет свой собственный, неповторимый почерк, но копирует уже известные произведения?
Другой, может, обиделся бы на такое примечание, но не моя тётушка. Она сказала: я к нему иду. Протоптанными тропами. Я хочу попробовать как можно больше, прежде чем собрать что-то своё.
Эскизы и готовые картины сменялись на стенах, одну из комнат Львовна полностью переделала в мастерскую. Забежав к ней в очередной раз в августе, я заметила, что многие из репродукций куда-то исчезли. Почему-то меня это задело - я любила их разглядывать. "Львовна, а где всё?", - спросила я. "Скоро заменю на новые, - невозмутимо ответила она. - Помнишь, ты меня спрашивала про "своё"? Своё и выставлю". Так и сказала "выставлю", как будто речь идёт о выставке в какой-нибудь французской галерее, а не тесной московской квартире, причём совсем не в центре города.
В прошлые выходные она зазвала меня к себе, что тоже было довольно необычно. Чаще я просто забегала сама, послушать её немного медленную, строгую, отчётливую речь, посмотреть на картины, принести нужное или помочь с компьютером. Отчего-то перепугавшись (возраст, всё-таки), я принеслась. Зашла в прихожую и ахнула - все стены прихожей, гостиной и мастерской были увешаны портретами. Львовна рисовала всех по памяти, поэтому люди на первых по хронологии картинах выглядели так, как она их видела, будучи маленькой девочкой. Пугающие, нависающие сверху дядьки и тётки в бурой, чёрной и коричневой одежде. Послевоенные годы. 60-е, 70-е. Появились более яркие, позитивные цвета, нежные оттенки кожи, сменился размер, пропорции, манеры написанных фигур. Время текло на полотнах, разрыхляло прекрасные юные тела, буровило морщины на беззаботных, смеющихся лицах. Светотени углубились - тьма ещё не поглотила тех, кто ещё вчера блистал, но уже начала к ним подкрадываться. А на самом последнем портрете была изображена сама Марина Львовна. Без прикрас, но в каком-то совершенно новом для меня качестве. Её нежелание стареть проступило в других деталях - своё портретное лицо она передала, не убрав ни одной детали, но руки выглядели так, как будто ей 20 лет, и так было и будет всегда.
Я перебегала от одной стены, увешанной картинами, к другой. Из Марины Львовны, когда она того не желала, нельзя было вытащить клещами и междометия, но её картины говорили, пели, смеялись на разные голоса и повествовали о непростой, длинной, примечательной жизни. У некоторых набросков я с трудом сдержалась, чтоб не расплакаться - на них были изображены мои родители.
- Они замечательные. Все до единой, - в конце концов сказала я Марине Львовне. Она поводила рукой по столешнице, и внезапно попросила:
- Когда я уйду, это всё нужно сжечь. Сделаешь?
Я выставилась на неё в изумлении.
- Это - мои воспоминания, они важны только для меня. Мне нужно было всё это выплеснуть на холст. Но когда я встречусь со своими родными, я должна быть уверена, что картины не окажутся где-нибудь на помойке, потому что отставных коз барабанщики не нуждаются в бабкиной мазне.
Пообещала. Теперь молюсь, чтоб она передумала, потому что отношусь к её воле с крайним уважением, и поступлю так, как мне приказали. С другой стороны я Марину Львовну понимаю - не для того она столько лет избегала кумушек, чтоб дать им возможность перемыть ей кости после смерти. А третьей - у меня, возможно, не поднимется рука.
Я всё ещё надеюсь, что моя хрупкая железная кнопка сменит мнение. Если же нет - просьбу придётся выполнять, но для себя я уже решила сфотографировать всю коллекцию до последнего листка. И хранить, чтобы передать моим внукам.
В 82 года живёт одна в маленькой квартире. Возраст хозяйки в её доме выдают лишь винтажные фотографии и туфли без каблуков. Мебель она постоянно переделывает, перекрашивает, переиначивает на свой вкус. Никаких завалов из баночек на кухне (я не виню бабушек, им трудно каждый раз тянуться за чаем и сахаром в шкафчик), никаких обвешанных иконами углов. Марина Львовна не желает замаливать ни свои, ни чужие грехи - ей некогда. Она - художник, снова взявшийся за кисть в возрасте хорошо за шестьдесят.
Моя родня "Львовну" не любит, считает зазнайкой, странной особой. А я её обожаю, подозреваю, что за многими мудрыми поступками моей собственной матери стоит если не деликатный совет, то личный пример тётки. Марина с юности ненавидела бабскую жестокость и бессмысленные разборки, и место в её сердце сурово ограничено - некогда она признавала только бабушку, сейчас открывает дверь только матери, мне и социальному работнику. Ненужных без лишних разборок выдворила. Признаний в нежных чувствах от неё не дождёшься, не так воспитана, их поколение не приучено щебетать "я тебя люблю, я тебя люблю" (и это страшно, плохо, но разве можно на них обижаться за такую эмоциональную немоту?). Как-то я её обняла первой, Марина Львовна сильно растерялась, смутилась. Но в глубине души, я уверена, обрадовалась. Потому что с тех пор начала рассказывать мне о себе нечто большее, чем "работала, жила, как все".
В юности Львовна была "середнячком" - не красавица, не уродина, крепкая такая заводская девушка. О том, что у неё талант к живописи, знала с тех пор, как себя помнит, однако последовать мечте не дала суровая реальность. Марина Львовна стала чертёжницей, а писать картины только для себя стала несколько лет спустя после выхода на пенсию.
Ещё ребёнком я рассматривала десятки её эскизов и картин на стенах, и удивлялась, насколько они все разные. Тогда я ещё не знала, что такое стили, к какой эпохе они относятся. Когда же повзрослела и начала распознавать знакомые очертания в работах Львовны, то спросила её - а почему она не ищет свой собственный, неповторимый почерк, но копирует уже известные произведения?
Другой, может, обиделся бы на такое примечание, но не моя тётушка. Она сказала: я к нему иду. Протоптанными тропами. Я хочу попробовать как можно больше, прежде чем собрать что-то своё.
Эскизы и готовые картины сменялись на стенах, одну из комнат Львовна полностью переделала в мастерскую. Забежав к ней в очередной раз в августе, я заметила, что многие из репродукций куда-то исчезли. Почему-то меня это задело - я любила их разглядывать. "Львовна, а где всё?", - спросила я. "Скоро заменю на новые, - невозмутимо ответила она. - Помнишь, ты меня спрашивала про "своё"? Своё и выставлю". Так и сказала "выставлю", как будто речь идёт о выставке в какой-нибудь французской галерее, а не тесной московской квартире, причём совсем не в центре города.
В прошлые выходные она зазвала меня к себе, что тоже было довольно необычно. Чаще я просто забегала сама, послушать её немного медленную, строгую, отчётливую речь, посмотреть на картины, принести нужное или помочь с компьютером. Отчего-то перепугавшись (возраст, всё-таки), я принеслась. Зашла в прихожую и ахнула - все стены прихожей, гостиной и мастерской были увешаны портретами. Львовна рисовала всех по памяти, поэтому люди на первых по хронологии картинах выглядели так, как она их видела, будучи маленькой девочкой. Пугающие, нависающие сверху дядьки и тётки в бурой, чёрной и коричневой одежде. Послевоенные годы. 60-е, 70-е. Появились более яркие, позитивные цвета, нежные оттенки кожи, сменился размер, пропорции, манеры написанных фигур. Время текло на полотнах, разрыхляло прекрасные юные тела, буровило морщины на беззаботных, смеющихся лицах. Светотени углубились - тьма ещё не поглотила тех, кто ещё вчера блистал, но уже начала к ним подкрадываться. А на самом последнем портрете была изображена сама Марина Львовна. Без прикрас, но в каком-то совершенно новом для меня качестве. Её нежелание стареть проступило в других деталях - своё портретное лицо она передала, не убрав ни одной детали, но руки выглядели так, как будто ей 20 лет, и так было и будет всегда.
Я перебегала от одной стены, увешанной картинами, к другой. Из Марины Львовны, когда она того не желала, нельзя было вытащить клещами и междометия, но её картины говорили, пели, смеялись на разные голоса и повествовали о непростой, длинной, примечательной жизни. У некоторых набросков я с трудом сдержалась, чтоб не расплакаться - на них были изображены мои родители.
- Они замечательные. Все до единой, - в конце концов сказала я Марине Львовне. Она поводила рукой по столешнице, и внезапно попросила:
- Когда я уйду, это всё нужно сжечь. Сделаешь?
Я выставилась на неё в изумлении.
- Жалко же, Марина Львовна! Отдайте в музей какой-нибудь, в частную коллекцию, подарите их детям, но жечь - это ужасно! Я не могу! Столько лет готовились...
- Это - мои воспоминания, они важны только для меня. Мне нужно было всё это выплеснуть на холст. Но когда я встречусь со своими родными, я должна быть уверена, что картины не окажутся где-нибудь на помойке, потому что отставных коз барабанщики не нуждаются в бабкиной мазне.
- Отдайте мне, я не выброшу!, - взмолилась я.
- Твоих (родителей) возьми хоть сейчас. Остальное - обещай! - сожжёшь, как я сказала. - и посмотрела на меня таким взглядом, что я поняла - спорить бесполезно.
Пообещала. Теперь молюсь, чтоб она передумала, потому что отношусь к её воле с крайним уважением, и поступлю так, как мне приказали. С другой стороны я Марину Львовну понимаю - не для того она столько лет избегала кумушек, чтоб дать им возможность перемыть ей кости после смерти. А третьей - у меня, возможно, не поднимется рука.
Я всё ещё надеюсь, что моя хрупкая железная кнопка сменит мнение. Если же нет - просьбу придётся выполнять, но для себя я уже решила сфотографировать всю коллекцию до последнего листка. И хранить, чтобы передать моим внукам.




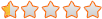
комментарии:
добавить комментарий
Пожалуйста, войдите чтобы добавить комментарий.